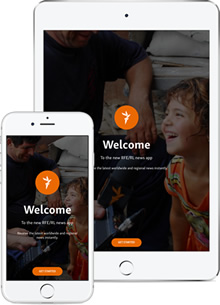Наталья Громова: Мои расследования по следам дневников Ольги Бессарабовой, которые я обнаружила в музее Цветаевой и в которых присутствовало очень много известных и неизвестных лиц, привели меня к истории Даниила Андреева, судьба которого, в общем, вполне широко известна. Он является автором знаменитейшего визионерского романа, романа-исследования “Роза мира”.
Но есть обстоятельства, которые остаются в тени и которые до сих пор являются приманкой для огромного количества исследователей. Это его уничтоженный роман “Странники ночи” - уничтоженный на Лубянке. Сразу скажу, что этот роман писался в 1937 году. Он повествует о событиях тридцать седьмого года. Но все аресты вокруг этого романа происходят уже в 1947 году, спустя 10 лет. И к этому мы сейчас придем.
Но сначала я хотела рассказать о пути Даниила Андреева и о Добровском доме. Добровский дом - это дом доктора Филиппа Александровича Доброва, который стоял в Москве в Левшинском переулке. И еще до рождения Даниила в этот дом часто приходил отец Даниила Леонид Андреев, влюбленный в сестру жены Филиппа Александровича Доброва. Леонид Андреев его обожал и говорил часто, что он без него бы точно погиб. И вот он был влюблен в сестру жены. Ее все звали нежно - Шурочка. Вообще в этом доме всех звали или Александрами, или Шурочками. Можно всегда запутаться.
Это был открытый московский дом, где принимали любых людей с любыми взглядами. И сам Филипп Александрович отличался тем, что он переводил, играл вместе с Игумновым на рояле, вообще дружил со всей известной художественной интеллигенцией. И главное, что в этом доме могли жить самые разные люди, в том числе моя героиня, которая описывает подробно судьбу и жизнь этого дома, Ольга Бессарабова. Она частично рассказывает, что там происходило в 1915 году.
Но мы вернемся к рождению Данила Андреева, потому что его рождение очень трагично: его мать умирает родами от родовой горячки в Германии. У него был еще старший брат Вадим, будущий знаменитый писатель-эмигрант, с которым они надолго расстанутся и встретятся уже очень в поздние времена один раз только. Вадим рос какое-то время в семье Михаила Рейснера и знал маленькую Ларису. В книге “Детство» Вадима Андреева мы видим прекрасное описание Добровского дома с его хлебосольством, с добротой Филиппа Александровича.
И маленький Даниил попадает в достаточно драматическую атмосферу, потому что отец несчастен, отец женится вторым браком - женится на женщине, которая не очень принимала этих детей. Есть и бабушка, которая была внучатой племянницей Тараса Шевченко. (Это вообще семья, которая соединяет несколько замечательных родов.) Смерть бабушки тоже связана с маленьким Даниилом Андреевым, потому что она заражается от него скарлатиной и умирает.
И вот некий странный рок, который преследует эту семью при рождении Даниила, он каким-то образом, как мне кажется, присутствует в истории, которую мы будем рассказывать.
До революции Даниил жил достаточно счастливо в этой семье и фактически был как сын. У него была двоюродная сестра Шурочка Доброва. Потом она станет Шурочкой Коваленской. Это была большая, достаточно счастливая семья. После революции этот мальчик стал обретать какие-то абсолютно невероятные черты: он это описывает в “Розе мира”: как он в двадцать первом году наблюдает видение небесного Кремля. Поэтому и книга его жены будет так и называться - “Плавание к Небесному Кремлю”. Собственно, эта идея, что есть такой антигород, анти-Москва, в которой всё идеально и прекрасно, приходит к нему еще в достаточно юном возрасте. Эти видения его посещают очень часто.
Наступает советская власть, и эта огромная квартира становится коммунальной
Наступает советская власть, и эта огромная квартира на первом этаже начинает все больше уплотняться, становится коммунальной.
Но все равно встречи, счастливые моменты жизни все еще длятся. И в дом входит еще один человек - Александр Коваленко, поэт, троюродный брат Блока, который вырос в том же имении, который прекрасно знал Андрея Белого (он присутствовал на свадьбе Шурочки Добровой и Коваленского), жившего в соседнем, кстати, доме, тоже в Левшинском переулке. На этой свадьбе был и младший сын историка Соловьева, Сергей Соловьев, священник, человек тоже с очень сложной судьбой.
И это был такой особый мистический мир. Коваленский писал, что причислял себя к Розенкрейцерам, мистикам, входил в какие-то кружки - их в двадцатые годы было очень много именно на Арбате. А рядом - имение Кропоткина, кстати, где был музей и там была анархо-мистическая группа. Уже начинались катакомбные времена после революции.
И эта вся молодежь пыталась жить параллельно советской власти. Именно поэтому, если Коваленко еще потом будет работать и писать детские книжки и пытаться вступить даже в Союз писателей, то Даниил Андреев, отучившись на литературных курсах в Брюсовском институте, закончит их и уйдет полностью из официальной литературы, официальной жизни и станет вообще чертежником. Потому что это были люди, которые старались не взаимодействовать с советской властью, советской действительностью, а жить в этих московских углах, о которых вообще ещё стоит много чего подумать.
Итак, второе было для него странное видение, о котором он тоже напишет потом в “Розе мира” и которое действительно родит потом идею о непрерывном существовании истории как единого мистического потока, который он может увидеть, - собственно, это и будет основным содержанием “Розы мира».
Здесь надо сказать, что эти настроения были попыткой, еще раз говорю, ухода от действительности, параллельного существования, которое поддерживала Варвара Малахиева-Мирович, его наставница, все время приходившая в этот дом и тоже увлеченная этими идеями, всякими мистическими состояниями, и так далее.
Это была замена религиозности, которая уходила, и на это место приходила другая форма религии. Итак, он в 1930-е годы работает художником-шрифтовиком и в основное время пишет поэму “Солнцеворот”, знакомится с Максимилианом Волошиным, ездит в Трубчевск, в Брянской области, ходит босиком. В общем, он живет и вообще видит Индию в Трубчевске. Ну, он особенный был действительно человек. В 1936 году у него много всяких метаний происходит.
Он видит, что город опустел
Как раз в августе 1936 года он возвращается в Москву из Крыма. Они все ездили туда в дом творчества, а он он там просто жил, снимал какой-то шалаш, потому что денег, конечно, в этой семье не было. И он видит, что город, как говорит ему его приемная мать, опустел. В нем очень много людей исчезает, начинает исчезать. И с этого, собственно, начинается роман “Странники ночи”, о котором я буду говорить в пересказе двух женщин. Одна - это Алла Александровна Андреева, которая сумела рассказать, о чем был этот роман. И Ирина Усова, которая появляется в его судьбе в конце тридцатых годов. Ирина и Татьяна Усова. Он ходит в их дом, их мать замечательная переводчица с немецкого. В этом доме его кормят, человека абсолютно не приспособленного к жизни и, как его называла Варвара Мирович, мимозного, не обладавшего никакой силой характера, но обладавшего странной гениальностью.
Стихи его были очень популярны в его среде - и поэмы, и стихи, - он написал поэмы “Германцы”, “Катакомбы”, “Янтари”. В общем, циклы его поэзии сохранились только благодаря спискам в его окружении, не посаженном, не до конца уничтоженном. И осенью 1937 года, когда он приступил к работе над романом "Странники ночи", он пишет в нем историю, как живет интеллигенция в 1937 году. Эта история и даже само название говорит, что люди общаются друг с другом по ночам, в арбатских и неарбатских квартирах, переходя друг к другу, потому что днем опасно: смотрят соседи по коммуналке.
Вот они переходят друг к другу, и в центре судьба трех братьев, фамилия их Горбовы - намек на фамилию Добровых. И эти три брата - в общем, как братья Карамазовы. Два из них - это вообще портреты самого Даниила, а третий брат очень похож на Александра Коваленского и излагает его идеи и мысли. Он астроном и смотрит на это мироздание, похожее, говорит Даниил Андреев, на цветы сирени. Он говорит, что в этом мире отражаются все метафорические смыслы. В этом он идет за символистами, конечно, которые там наверху, в небесном мире. И его это действительно очень занимает.
Среди них есть инженер Серпуховской, который предлагает некие акты террора
Он пишет историю про то, как собираются такие люди. Вот Горбовы, там есть Ирина Глинская, одна из героинь, замечательная, которая списана фактически с Шурочки Добровой. И они собираются, чтобы устроить заговор и свергнуть Сталина. Это написано прямым текстом. Мало того, среди них есть инженер Серпуховской, который предлагает некие акты террора. Он как бы внедрен туда. Это отсылка, я думаю, ко всем процессам, которые в тот момент идут, и Даниилу Андрееву это запало в душу. И он таким образом придумывает некого действительно белого шпиона, который подначивает на террор эту публику, которая хочет понять эту ситуацию со Сталиным идеологически и понять, как ее изменить духовно.
У одного из героев, казалось бы, невероятная идея вообще в духе Достоевского - покончить с собой и воскреснуть, и таким образом через свою смерть, через жертву изменить эту ситуацию. В общем, мы все это знаем в пересказе, к сожалению, и это очень трудно четко понять. Это была серьезная, на самом деле, глубокая работа, которую он переписывал неоднократно. И там была очень интересная идея про две эпохи в России, которые меняются, - красная и голубая. Голубая - это эпоха духовной жизни, а красная - это вот такая грубая активность материи. И они постоянно находятся в такой смене и необходимо эту голубую часть все время увеличивать за счет вот этой интеллигенции.
Этот инженер Серпуховской (там есть несколько интересных соображений, как он видит окна Лубянки, как очень четко там роль Сталина во всем описывается), он, собственно, и был тем страшным крючком, на который попались и Даниил Андреев, и все, кого арестовали по его делу, потому что следователи потом будут искать героев, из героев романа они будут делать террористическую организацию. Для меня это самый интересный момент, когда литература настолько включается в действительность, что сами эти герои не могут сорвать с себя маски.
Итак, роман написан, наступает 1941 год и умирают друг за другом сначала доктор Добров, потом его тетушка, его приемная мать, что для него было очень драматично. И Даниила Андреева призывают в армию. И тут опять интересно. Он работает в похоронной команде, где он занимается похоронами погибших. То есть всю ту часть войны, которая ему выпадает, он закапывает трупы.
Сейчас, когда обнаружилось письмо уже 1945 года, он пишет о том, что его все-таки освободили от дальнейшей службы, потому что ему поставили диагноз. Никто об этом еще не писал, это никто не видел: у него стоит диагноз шизофрения. Это письмо он пишет Варваре Григорьевне Малахиевой-Мирович:
Из письма Даниила Андреева к Варваре Малахиевой-Мирович:
24. VII.45
Дорогая баба Вав,
Я перед вами виноват, но не в такой степени, как вы, вероятно, думаете.
Мой отъезд без предварительной встречи с вами не был вызван ни
невниманием к вам, ни нежеланием по каким-либо причинам вас увидеть перед отъездом. Но я совсем болен. В психо-больнице мне поставили диагноз — депрессивно-маниакальный психоз, на этом основании освобожден от военной повинности, дали II группу инвалидности с запрещением работать 6 месяцев. Это, конечно, неосуществимо, но на 2 месяца, по-видимому, удастся растянуть небольшую сумму, имеющуюся в нашем распоряжении.
И, кстати, в одном из писем он рассказывает о своих планах. Это тоже малоизвестная история: он хочет сделать “Странников ночи” частью эпопеи, которая будет заканчиваться “Розой мира”. То есть у него были очень серьезные намерения. Но в 1945 году он неожиданно влюбляется, при том, что у него была невеста, Татьяна Усова, которая была ему очень предана. Они, в общем, уже считались женихом и невестой, но он влюбляется в жену своего друга художника Ивашова-Мусатова Аллу Александровну, ее фамилия Бружес.
Я хочу отвлечься и сказать, что роман «Странники ночи» хранился в земле под лестницей, так как это был первый этаж Добровского дома. Он лежал там в футляре и время от времени выкапывался и показывался ближнему кругу. Хотя, еще раз говорю, потом уже и Коваленский, и другие скажут, что они слышали только первые главы. Они не читали всего романа, но первые главы они слушали.
Друзья считали, что брак с Аллой Александровной абсолютно не для них, но их кидает друг к другу. Она была художницей, но ей все-таки, как мне кажется, очень не хватало светской жизни. И по всей видимости, с ее подачи начинается чтение романа в Добровском доме, что безусловно было невероятно опасно.
В доме появляется человек, о котором тоже будем говорить, поэт Николай Стефанович. Все понимают, что с его подачи экземпляр романа оказался на Лубянке. Теперь я понимаю, что этот экземпляр просто пришел на Лубянку, был скопирован, что дает нам сейчас основание надеяться, что будет найден когда-нибудь хотя бы скопированный экземпляр. И потом Стефанович его вернул перед самым арестом Даниила Андреева, о чем пишет Алла Александровна.
Сначала арестовывают Даниила Андреева, потом Аллу Александровну. И Даниил Андреев, как я уже говорила, следуя тому, что он был, разумеется, не борец и не герой, сам пишет список, своей рукой, всех, кто читал роман. Туда, кстати, входит бедная престарелая Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович, но ее не взяли, и родители Аллы в ужасе. Не взяли пожилых людей, но взяли огромное количество людей, до 25 человек, вплоть до того, что очень многих попутно привлекали. Несколько было эмигрантов, которые вернулись и были бывшими друзьями дома Добровых, вернулись после войны. И были там даже, как говорили, стоматологи, какой-нибудь сосед, сапожник и так далее, который проходил мимо. То есть была организована такая большая террористическая группа.
В чем было везение - как ни странно это говорить? Это был 1947 год, когда был отменен расстрел и заменен 25 годами ареста. Именно поэтому для нас сохранилось огромное количество текстов и воспоминаний. Но это был только один год. Поэтому они выжили.
Теперь момент второй. Следующие аресты. Арестовали Татьяну Усову, которая давным-давно уже разорвала отношения с Даниилом Андреевым. Был арестован Коваленский и были арестованы школьные друзья и близкие друзья дома.
Я не буду сейчас упоминать все фамилии, но суть в том, что из вновь открытых обстоятельств (а это следующая партия дневников Ольги Бессарабовой, которую удалось добыть фантастическим путем), мы узнаём рассказы Татьяны Усовой об аресте, мы получаем тюремный роман Коваленского, и мы узнаем, как шло следствие. Это никто толком не знал, были только материалы допросов и то не все. Воспоминания об этом были очень узкие, в том числе очень такие небольшие Аллы Александровны.
Теперь открывается абсолютно новый пласт, и мы узнаём, как Абакумов готовил это дело для Сталина, потому что есть огромный документ, где он это представляет как страшную террористическую организацию, которая должна была убить Сталина и поменять вообще государственный строй в России.
21 июня 1948 г. № 4248/а
Совершенно секретно
Товарищу СТАЛИНУ И.В.
Об аресте в Москве террориста АНДРЕЕВА Д.Л. и ликвидации возглавляемой им антисоветской группы с террористическими намерениями.
Всего по делу арестовано 16 человек. МГБ СССР арестована группа врагов советской власти, выходцев из классово чуждой среды, в числе которых сын писателя-эмигранта Леонида АНДРЕЕВА — АНДРЕЕВ Д.Л., член Московского городского комитета художников-оформителей, и его жена АНДРЕЕВА А.А. — художница. В процессе агентурной разработки было выявлено, что АНДРЕЕВ Д.Л. и АНДРЕЕВА А.А. группировали вокруг себя вражески настроенных людей и среди них вели злобно антисоветские разговоры, распространяли клевету и измышления против советской власти. Кроме того, через агентуру установлено, что АНДРЕЕВ написал ряд антисоветских произведений и читал их своему близкому вражескому окружению. МГБ СССР было секретно изъято антисоветское произведение АНДРЕЕВА под названием «Странники ночи» в 4 частях, в одной из глав которого АНДРЕЕВ призвал к активной борьбе с советской власти.
На основании этих данных АНДРЕЕВ и его жена были нами арестованы:
(…)
На допросах АНДРЕЕВ показал, что после эмиграции в 1919 году его отца Леонида АНДРЕЕВА в Финляндию он воспитывался в семье дяди — монархиста ДОБРОВА Ф.А. (умер в 1941 году). На квартире ДОБРОВА в первые годы после революции собирались монархисты, меньшевики и другие вражеские элементы, которые обсуждали активные меры борьбы с советской властью. АНДРЕЕВ присутствовал на этих сборищах и впитывал в себя враждебные советской власти убеждения. Под влиянием этого в последующем, как показал АНДРЕЕВ, он стал враждебно относиться к советской власти, специально разыскивал и читал литературу о террористах и пришел к выводу, что террор является одним из активных и действенных средств борьбы, могущих подорвать основы Советского государства.
(...)
АБАКУМОВ АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 208. Л. 22—31. Подлинник. Машинопись.
Одной из активных участниц считалась Татьяна Усова, невеста Даниила Андреева. В своих набросках воспоминаний, которые были в дневниках Ольги Бессарабовой, Усова пишет об очных ставках с Даниилом Андреевым. Здесь есть несколько любопытных деталей.
Усова говорит: "Это было ужасно. Я ни на кого не показала, ни на себя, ни на других. А он и себя, и всех топил". Это было весной 1948 года. Он говорил: "Мы многого не понимали. У нас личная мораль, а тут общественная. Я вам советую пересмотреть ваше мнение".
Было впечатление, что он полностью деморализован и нет никакого сопротивления
Это он говорил Татьяне Усовой. “Я сам пересмотрел своё миросозерцание”. Следователь, который его вел, стоял с ключом. И если он говорил что-нибудь не так, то следователь говорил: "Ну" и помахивал ключом. Было впечатление, что он полностью деморализован и нет никакого сопротивления.
Разумеется, тут каждый рассказывает со своей точки, но драма этого ареста состояла именно в том, что и Алла Александровна тоже, к сожалению, была человеком очень слабым. И вопрос даже не в ее слабости, там людей могли домучить, разумеется, до чего угодно, но она (как пишет в своем уже тюремном романе Коваленский) прекрасно выглядела, она очень хорошо была одета, она вообще была как будто из парикмахерской. Вот это ощущение людей, которые встречали на очных ставках человека из другого мира, потрясало. Оно потом устно доходило, в течение многих лет, потому что Алла Александровна дожила до начала 2000-х.
Была легенда (она всячески поддерживалась) андреевской линии - легенда о том, что вели они себя благородно, что, разумеется, их пытали, мучили (что абсолютная правда, я не могу тут никого осудить), но вопрос в том, что все другие члены этого следствия находились в более тяжелом и страшном положении, нежели Алла Александровна. И Даниил потом в письмах к своей жене из лагеря, уже фактически перед выходом, говорит о своей вине. Она эту вину не хочет брать на себя. Она говорит: "Ну, случилось, и случилось, забудь". То есть в нем идет мучительная работа, потому что он был, конечно, источником бед для всего своего окружения, и Добровский Дом погиб - погиб в 1947 году после арестов фактически всех родственников Даниила Андреева, его самого и его двоюродного брата, сестры, их жен и мужей.
Когда я писала книгу “Последняя Москва”, я предприняла попытку поисков главных героев романа “Странники ночи» и этой истории. Я говорю об Александре Коваленском и его жене Шурочке Добровой, про которых я уже много знала: про их юность, про их брак, про жизнь их в Добровском доме - из дневников и Ольги Бесиарабовой, и Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович. Нужно было понять, что же с ними произошло, хотя формально мы знали, что они были арестованы.
Но самое главное - сначала я нашла соседку, жившую в доме Добровых, абсолютно замечательную женщину, которой было уже 89 лет. Но она была как бы вот в двойном состоянии. Она была уже, с одной стороны, не очень здорова, а с другой стороны, у нее такой луч памяти высвечивал прошлое. И она рассказывала, как она девочкой тринадцатилетней любила этих двух людей, которые были привязаны друг к другу какой-то невероятной любовью, они почти никогда не расставались, были вот такое единое целое.
Все они были связаны с Блоком, с имением Дедово
Она была несостоявшейся актрисой, он был поэт, тоже, надо сказать, для советской власти не задавшийся. У него была 500-летняя родовая история рода Коваленских, польского рода, и его отец был крупным профессором математики, мать его была писательница. Все они были связаны с Блоком, с имением Дедово, у него существовало много-много стихов об этом, которые мы с трудом сейчас можем обнаружить. Они не публиковались, существовали просто в списках. И вот эта женщина мне стала рассказывать, как они ее привечали, любили и как уже после ареста Коваленского пришли за Шурочкой, через месяц. И она кричала на этих охранников, на этих чекистов: "Что вы с ним сделали? Отвечайте!". Они молчали, шли обыски. Она говорит, что играла музыка Рахманинова, и нас всех вывели в коридор, и там стояли с ружьями вот такими, с пиками, как она говорила, эти самые солдаты, потому что это был какой-то такой серьезный арест. Он все время воспроизводился: сначала одних сажали, а в квартире жило очень много людей. Это тоже часть истории Добровского Дома.
А потом меня нашел сам еще один сосед. Ему было тогда, как ни странно, 5 лет. Но он сказал, что ему врезалось в память. Он просто специально меня нашел, привел на то место, показал, где был закопан роман “Странники ночи”. Я должна сказать, что Даниил Андреев сам привел туда чекистов, следователей и сам показал это место.
И он мне сказал, что самое почему-то для него в детстве было страшное, когда выносили их огромное напольное зеркало, его кинули на грузовик и оно разбилось на мелкие кусочки, на брызги. И он тоже помнил, что стояли вдоль стен солдаты, охрана, и он сказал, что их заперли. Там было несколько соседских детей от пяти до десяти лет, их заперли просто в комнате и не позволяли долго выходить. И они понимали, что происходит что-то страшное.
С Коваленским была действительно драматическая история. Я знала уже от соседки, что он умер в 1965 году, и что он что-то писал о том, что случилось. И она даже говорила, что когда они собирались несколько раз и была Алла Александровна (Андреева) уже в 60-е годы, то Коваленский читал какие-то куски своих текстов и закрывал от Аллы рукой всё, что там написано. Между ними существовал абсолютный антагонизм. И я хочу сказать, что в этой среде было абсолютное убеждение, что она причина беды. Хотя это не совсем правда, потому что причиной был все-таки роман, который бы рано или поздно все равно нашли, как мне кажется.
Итак, я нашла наконец женщину, звали ее Елена Опарова. Она была дочерью женщины, которая пришла после Шурочки и ухаживала за Коваленским, уже больным, пришедшим из лагеря. И у этой женщины в хранились бумаги, фотографии. Поиск ее был очень непростой. Через интернет я пробивала фамилии, адреса. Я находила, как кого звали и просто звонила в организации и наконец через каких-то племянников, которые бросали трубку, нашла телефон этой женщины, и она со мной минут десять разговаривала очень странно. Она говорила: "А вам кто нужен?" Я говорила такая-то. "А вам что от нее нужно?" Я говорю: "Ну, я хочу говорить с ней". И только через десять минут она призналась, что это она со мной говорит. Она всячески выведывала у меня. И вообще я сразу поняла, что я вступила в какой-то очень зыбкий мир.
Мои отношения с ней кончились очень драматично, потому что она даже пришла в музей и я ей все показывала. И она рассказывала, что она его очень не любила, потому что во дворе все смеялись, когда видели его в длинном черном пальто, которое ему подарил сам пришедший в нем из лагеря стиховед Леонид Тимофеев, его друг. И им приходилось с братом его таскать в туалет на себе, потому что у него была больная спина. И вот какая-то такая ненависть была.
И в какой-то момент она мне сказала: “А я вам ничего не отдам, я всё это уничтожу”. И надо сказать, что это был для меня тяжелый момент, когда я сказала себе: "Всё, я эту историю больше не могу. Куда я ни продвинусь, она показывает тупик". И я эту историю заканчивала вот этим концом, гибелью Добровского Дома, тем, что я тогда знала.
Вот сейчас уже мы получили абсолютно фантастическим образом дневники Ольги Бессарабовой с 1927 по 1967 год. Бессарабова, приняв огромное количество людей, вернувшихся из лагерей, близких и не только близких, переписывала их воспоминания. Там нет подлинника тюремного романа Коваленского, но есть всё переписанное ее рукой, в том числе и стихи.
Коваленский пишет в этом романе, что в какой-то момент следователь сказал ему, что его тексты сожжены и ему надо подписать акт о сожжении всего его творческого наследия. Он на него закричал: "Я не подпишу!". - Их уже нет, ваше дело только подписать. А, собственно, так же они поступили, как они говорили, с наследием Данила Андреева. Но тут судьба уже по-другому немножко распоряжалась. И поэтому бесценно то, что мы сейчас нашли.
Из романа Александра Коваленского.
Надо сдерживаться всеми силами… Но я не сдержался:
- А вы полагаете, в Советском Союзе много учреждений, которые могут вот так вот схватить ни в чем не повинного человека?
- У-у! Да вы зубастый! Скажите, какой он образованный!
- Образованный ли, не знаю, но некоторые «методы» с сегодняшнего дня узнал – к сожалению…
- Брависсимо! Но почему «к сожалению»? Надеюсь, Коваленский, вы узнаете еще о-очень много новенького…
Тут я ручаюсь – толстяк быстро сжал, или, во всяком случае, схватил руку штатского, лежавшую на столе (рука играла с коробкой каких-то импортных сигарет в очень яркой упаковке) – штатский замолк, не кончив фразы. Затем толстяк быстро написал что-то на бумаге или на папке, положенной перед каждым – штатский выдавил на лице брезгливую гримасу, обмяк, обвис над столом, бросив на меня быстрый взгляд. Так хлопает затвор фотоаппарата – но ни раздражения, ни злости я во взгляде не увидел…
Опять начал толстый:
- А давайте-ка, Коваленский, по-другому, а? Александр Викторович… правильно? Так вот, Александр Викторович, поскольку мы с вами не дети… Вы писатель? И поэт? – И поэт. – Член Союза Писателей? – Да.
Толстяк быстро перелистал лежавшие перед ним бумаги: - Вы пишете в анкете – два факультета прошли. – Не два факультета, а два ВУЗа. – Ну все едино… Значит, человек более, чем грамотный… И писатель, и поэт, и вроде как ученый… Ай, ай ай…
- Что ай-ай-ай? – Как что? Взрослый человек, культурный – и так запутался. Беда!
- Куда запутался? В чем запутался?
- Куда… в чем… Вот то-то и дело… А вы плюньте-ка, Александр Викторович, на всякие там буржуазные кодексы морали, возьмите сейчас, да и расскажите – по совести – по чести – во-первых, всё о ваших антисоветских связях, во-вторых, всё о вашей антисоветской пропаганде: как, что, где, о чем, с кем… Я вот и стенографисточку приготовил…
Я молчал долго – гораздо дольше, чем, очевидно, следовало. Не сомневаюсь: у каждого из «четверки» родилась одна и та же мысль: «арестованному есть в чем сознаться, - он колеблется» …
А ошарашенный «арестованный» просто пытался сообразить, откуда и как могло взяться такое чудовищное обвинение… Нет, что бы ни говорил Даниил, этого он изобрести не мог! После минуты оглушенности я собрался с мыслями: - Мне стенографистка не нужна. Впрочем, если хотите, запишите:
первое: никаких антисоветских связей у меня не было и нет; второе – никакой антисоветской пропаганды я не вёл и не веду. Всё.
Я очень порадовался своему ответу – удалось, все-таки, сохранить человеческое достоинство… Увы! радость моя длилась недолго…
- Что называется: дешево и сердито! – бросил, ни к кому не обращаясь, штатский неожиданно веселым тоном, - только не слишком ли дешево? – в голосе звучали жесткие ноты: - А если мы вам скажем, что материалы – и неопровержимые материалы! на вас собираются много лет – что их набралось вагон и маленькая тележка – что одни Андреевы их дали – и-их! благодарю покорно, сколько – что одна эта штуковина, - он постучал костяшками пальцев по чему-то вроде большого томаinfolio, завернутого в бумагу и перевязанного тесемкой, лежащего перед ним на столе, что одна эта штуковина уличает вас полностью со всеми потрохами – со всей вашей «са-кра-мен-тальной» организацией – как вы там не хитрите… Ась?
Час от часу не легче! «Сакраментальная» организация? Чудовищная нелепость – какое-то идиотское недоразумение – лучше бы мне было подумать тогда же: моя чудовищная ненависть! Меньше мытарств пришлось бы вынести потом… Но в то же время я был еще уверен: действительность достаточно доказательна, надо говорить только то, что есть: я-то сам знал лучше всех других: никто и ничто не может уличить меня ни в чем.
- Никаких уличающих меня материалов у вас нет и не может быть. Хотя бы потому, что уличать меня не в чем (я сказал буквально то, что думал).
Реакция была неожиданной: толстяк улыбнулся, блондин взглянул несколько удивленно, штатский опять развеселился:
- Так уж и не в чем? Уй-уй. Как здорово! Вот это здорово! Совсем не в чем! – Улыбка погасла мгновенно, на его лице появилось выражение необыкновенной свирепости:
- А это вам знакомо?
Он развязал тесемку, развернул бумагу – на свет появился толстый том, действительноinfolio, в черном переплете, - надпись бронзированными буквами хорошо читалась даже с того места, где я сидел: «Странники ночи» …
Так вот он, - этот пресловутый «окончательный» вариант… Штатский держал том обоими руками – так держат икону – видимо, лицезрение его должно было подействовать на меня, как «взрыв бомбы». Но лицезрение его на меня никак не подействовало, да и не могло подействовать, уж хотя бы потому, что я его, правда, не знал: - Этот том мне неизвестен. Я знаю только первый, неоконченный вариант – и то частично.
- Ах, вот как? З-замечательно! Значит вот этот?
Штатский быстро отодвинул ящик письменного стола, вытащил оттуда такой же том, но потоньше, в таком же черном переплете, положил на стол, начал быстро листать. Был ли это, действительно, первый вариант «Странников ночи», я различить со своего места не мог…
- Что так внимательно смотрите? Это фотокопия первого варианта – подлинник у нас в другом месте… Значит, этот вариант вам известен?.. Порядок… Зачитать вам главу о терроре? И рассуждения Адриана Петровича – или Александра Викторовича? Что, удивлены, что мы входим в такие, так сказать, «психологические тонкости»? А мы до многого докапываемся… Такая уж профессия. А террористами особенно интересуемся.
Тут необходимо сделать замечание: Адриан Петрович – это один из героев «Странников ночи». По мнению ряда наших близких знакомых, слышавших куски этого романа, Андреев приписал «Адриану Петровичу» ряд моих черт, вложил в его уста некоторые мои высказывания философского характера, сильно их исказив – помню не одну ссору с ним моей жены на эту тему.
- Так как? Зачитать или не стоит – и так помните? Ну если мы вам дадим кое-какие доказательства – не подозрения, а доказательства – да, да, письменные – что вы не только обсуждали эту тему – выражали полное согласие – и теоретически, и практически… А? тогда что? Неудобно будет?
Доказательства? У них есть доказательства – и даже письменные – моего согласия на террор – «теоретического и практического» ?! Я - написавший цикл стихов «Об извечном брате»? О том, что «каждый, убивший брата – убил самого себя»? Поэму «Отроги гор»? Бред! Ведь стихи мои сохранились!!! Тут я сделал большую отклоненность – первую, но увы, не последнюю в этот день, я уперся глазами в штатского и проговорил, «отчеканивая» каждое слово:
«Повреждает общие корни – каждый виновный в зле»… Или так: «и каждый, убивший брата – убил самого себя». Это из двух разных циклов,- на протяжении 10-ти лет. Это террор?
Мой заряд полностью пропал даром – штатский опять развеселился:
Маскировочка, уважаемый, маскировочка!
- Маскировочка, уважаемый, маскировочка! В Советском Союзе о терроре особенно не поговоришь – сейчас – «ам» - и нет! Эх, Коваленский, признайтесь-ка лучше сразу! Ну кого вы хотите перехитрить? Вы, вот, обиделись, что я спросил – где вы находитесь? Ну, что ж я сам скажу – вы находитесьсейчас в самом центре советской контрразведки. И хотите с ней бороться? Смешно!.. Все равно – в каждой букве сознаетесь, в каждой запятушке… Ка-акие бывали- не вам чета – и то признавались. Хоть миллиграмм-то совести у вас остался?
(...)
Мысли начали мешаться в голове: может быть, у Андреева, правда, какая-то организация? Как ни трудно этому поверить, не менее трудно допустить, чтобы можно уговорить 20 человек, половину которых я знал, подтвердить свою принадлежность к «антисоветской организации» - да зачем? Зачем? Может быть – запугивание? Или он запугивает сейчас? Или все это провокация? Как я должен себя вести? Ведь теперь дело шло о других людях – я должен быть еще вдвое осторожней…
- Ну, не желаете подтверждать? Плохо ваше дело!.. Хоть машинку признали – я видел – и то хлеб… Так сказать, «начало положено». А то смотрите, какого разыграл коммуниста – тьфу! И произносить это слово в его присутствиинеудобно. Тут 200 миллионов человек напрягают все силы – залечивают раны – а они, видите ли, недовольны – к террору призывают, гниды проклятые… А я вам скажу: вы на этом самом стуле каяться будете – как баба, реветь будете – вы.
- Не буду –
- Будешь, мерзавец! Всех назовешь, кого завербовал со своим Андреевым – всех!!! Поименно!!!
Последние слова он буквально прохрипел – то ли в настоящей злобе, то ли – подозрение мелькнуло вдруг – в отлично разыгранном бешенстве – именно эти слова его и оказались, так сказать, «каплей, переполнившей чашу». Ничуть не фигуральная, - самая настоящая волна ярости поднялась со дна и затопила мозг. Кровь тяжело заходила в висках; в глазах заплясали окна, стеклянные подвески люстры…
И, ведь, он мог продолжать в том же роде – мог наговорить еще более оскорбительных вещей – нет! Не мог! – был один способ помешать ему… ему…
Я медленно встал – ноги сделались какими-то странными – едва слушались – схватился обоими руками за спинку стула – палка упала на пол… Штатский тоже вскочил, сунул руку в карман – что он, стрелять, что ли, собрался? – завопил не своим голосом: - На место! Не сметь вставать!!!
Раз вы привезли на Лубянку, - вам от меня что-то нужно…
Но я обратился прямо к толстяку, медленно выговаривая слова – в этот миг я впервые ощутил затрудненность речи, которая часто потом обрушивалась на меня в минуты особенно большой напряженности:
– Раз вы привезли на Лубянку, - вам от меня что-то нужно… А не эта галиматья… Так вот - если вы будете обращаться со мной корректно – я отвечу – что смогу и что сочту нужным… Если будет спрашивать – или вообще, кричать в прежнем тоне – этот в штатском – я не отвечу ни одного звука.
Подчеркиваю: я решился высказать эти фразы и, особенно, следующую, как бы «по наитию» - бесовскому, как могли бы сказать в давние времена – настолько внутри все клокотало от ярости и смертельного оскорбления – за всю мою жизнь никто никогда не осмеливался говорить со мной такими словами, таким тоном – а мое самолюбие было очень избаловано – и в юности, и, особенно в годы зрелости. И все же я не прибег бы к этому рискованному средству, если бы мог хоть что-нибудь сообразить в эту минуту…(...)
- Ах, и сюбчик! Ни звука! Ни слова! В-великолепно! – потом сразу изменил выражение голоса – очевидно это был его излюбленный прием. – А ну, там, контра, - са-адись! Мы тебя научим –
Но он не договорил. – Я тоже повысил голос – бросился в ледяной омут вниз головой:
- Тогда я прибегну - к аэрации. Фраза была сказана, - непоправимая оплошность совершена…
Несколько секунд молчали все: может быть, не все поняли смысл термина, - но реагировал каждый по-своему: блондин, сидевший на диване, резко повернулся ко мне, воззрился укоризненным взглядом; толстяк высоко поднял неровные брови и прижал нижнюю губу к верхней – глаза его стали вопрошающими и как бы припоминающими что-то хорошо знакомое, но вдруг позабытое; штатский, наоборот, сдвинул брови, свел нос, рот и подбородье в одну точку с таким видом, точно понюхал остро пахнущее снадобье; красивый блондин понимающе кивнул головой. Даже стенографиста, мирно продремавшая, по-моему, последнюю четверть часа, - что-то поняла, очнулась, устремила на меня пристальный взгляд.
Этот роман Коваленский пишет не только об аресте. Пишет как хороший писатель, как роман-стихотворение, он пишет психологию следователей, которые его окружают. И там одна из первых очень страшных картин - как открываются стеллажи у следователя в шикарном кабинете на Лубянке, книжные стеллажи, и он входит в огромный зал с ковром, с люстрой, стоит стул, и туда входит масса генералов, каких-то, очень крупных чинов чекистских, садятся и на него смотрят. И он пишет: "Человек с восточным лицом" - это был Кобулов, как он сам потом понял, - "там сидел Абакумов". Они говорят: "Ну, признавайтесь, говорите о своих террористических замыслах".
Иван Толстой: А почему Коваленскому такая честь, что Кабулов и Абакумов пришли к нему?
Наталья Громова: Идет борьба за новые уголовные дела, на которые обратит внимание Сталин, яркие дела, которыми следователь должен заслужить доверие. Поразительно то, что оказалось, что когда всю эту группу из Лубянки переведут в Лефортово, оказалось, что на Лубянке (это было для меня полным открытием) следователи не могли ничего нащупать такого, чтобы создать этот террористический организм. Ну, разваливалась эта история. При том, что Коваленко сразу говорил, что знает только часть романа. Всё, где выведен я и моя жена, - это всё нелепость. И он говорит, что у Даниила Андреева шизофрения. Он никого не сдаёт, но он максимально дистанцируется от этого.
И он как раз говорит: "По мнению ряда наших близких, знакомых, слышавших куски этого романа, Андреев приписал Андриану Петровичу ряд моих черт и вложил в его уста некоторые мои высказывания философского характера, сильно их исказив. У нас была даже ссора с ним, и мы перестали общаться, хотя они жили в одном доме”.
Коваленский говорит об этой шизофрении, о которой вообще мало кто говорит. Он говорит: "Это больной человек". Ну, разумеется, это, может быть, не очень хорошо так утверждать, но в данном случае это было правильно.
И следователи не могут все это склеить, и поэтому они переводят их в Лефортово. Это, понятно, уже следующий уровень ужаса, дальше уже идет только Сухановская тюрьма. И вот там ими занимаются уже совсем другие следователи. Коваленский вообще очень интересно анализирует этих следователей, все их типы. Но на Лефортово повествование обрывается, мы не нашли конца. Там шесть тетрадей, и уже потом будет, видимо, тюрьма.
Но что я хотела сказать самое главное: он пишет, что этот текст он создает только для того, чтобы оживить память своей жены, которая умерла в 1956 году в тюремной больнице. В том же самом мордовском лагере Явас, в этом вечном лагере для всех женщин, которыми я занималась. Они все прошли эту Потьму, этот страшный мордовский лагерь. И Коваленский пишет, чтобы всё восстановить, потому что на самом деле - что меня поразило - это любовный роман, роман о том, как женщина идет за ним. Ему следователи говорят: "Вы знаете, мы не хотели ее сажать. Она просто попросила ее посадить рядом с вами, чтобы быть недалеко от вас". И начинаются на прогулках попытки каким-то образом связаться.
И дальше вот история, которая меня абсолютно поразила: когда Шурочка уже смогла, уже арестованная и уже оказавшаяся в этой Потьме, смогла уже писать, она нашла возможность писать Ольге Бессарабовой, и Ольга нашла возможность ей присылать бесконечные посылки, она написала абсолютно для меня потрясающее письмо в 1954 году о свидании с Коваленским.
Она пишет: "Свидание было кратким, но оно было важным для нас обоих. Несмотря на всю трагичность нашего положения, мне кажется, что оно было самым прекрасным из всех наших свиданий по своему внутреннему значению. Боже, как мы любили внешнюю сторону жизни, может быть, слишком любили. И теперь, когда вся позолота стерта, когда от нас осталось одно воспоминание, да и его почти нет, когда судьба бросила нас в разные стороны, когда так много нам надо было понять, уяснить, столько переоценить, мы оба тут и оказались на одном пути. Вот это было так важно узнать нам обоим. Вы, конечно, и тут помогли мне. Когда он увидел меня в вашем синем халатике, босоножках, в хороших чулках, в белом вязаном платочке, накинутом на плечи, то был ослеплен роскошью моего наряда, так как знал, что из дома я не взяла ничего, а ведь прошло с тех пор семь лет”.
И там эта история еще разворачивается абсолютно фантастически: Коваленский приезжает (это уже известно из писем и из дневниковых записок Ольги Бессарабовой), в Потьму и Шурочка Доброва умирает у него на руках, он потом напишет Даниилу Андрееву, что “кроме тепла, у неё не осталось к вам другого чувства. Во всем случившемся она видела именно развязывание узлов, завязанных нами самими, и ею в том числе. Но как и почему я говорить сейчас не в состоянии. Да, я видел то, что дается немногим. Перед этим светом меркнет всё без исключения. Я не понимаю и, вероятно, никогда не пойму, почему именно мне, такому, как я есть, был дан такой неоценимый дар. И пока я пыжился что-то понять, читал, изучал, сочинял стихи и прозу, она шла и шла по единственной прямой краткой дороге и пришла туда, куда я не доползу без ее помощи через тысячу лет. Я не знаю, я чувствую, что эта помощь есть”.
Александр Коваленский добился разрешения привезти из Потьмы гроб с прахом Шурочки, и урну с ее пеплом опустили в добровскую могилу на Новодевичьем кладбище.
Почему этот сюжет мне показался невероятно важным? Потому что здесь люди, доживая эту жизнь, отдавали друг другу все эти долги. И большое счастье, что тут оказались эти руки, потому что, в принципе, все должно было быть исчезнуть.
Есть мемуары такого Алексея Смирнова, хулиганствующего художника. Он очень дружил с Даниилом Андреевым через своего отца Глеба Смирнова, художника. Будучи еще маленьким, но он все это видел. Когда я нашла, я очень удивилась: он написал, что “у Коваленского есть очень интересная книга о своих мытарствах в лагере с вкраплениями воспоминаний о своей молодости. Где сейчас рукопись, я не знаю. Квартиры у Коваленского после возвращения не было. И он жил, как он сам говорил, нахлебником в семье своих еще гимназических друзей в Лефортове, где я у него и бывал”.
Ну, собственно, вот он отсылает нас к той рукописи, которую я сейчас и нашла. Он только слышал о ней, ее не было. И вот эта женщина, мать этой истерички, которая мне ничего не дала, грозилась все уничтожить, она поехала, она была, как я понимаю, просто тайно влюблена всю жизнь в Коваленского (она писала о «Саге о Форсайтах”, она была литературоведом, Елена ее звали), она поехала в Потьму вместе с ним увезти гроб. И вся семья была в ужасе, потому что Коваленский потратил на это все деньги, которые ему дали при реабилитации. У него не осталось ни гроша просто, чтобы организовать эти похороны достойно. И поразительно, что на Новодевичьем кладбище лежат теперь все они, весь этот сгинувший дом Добровых: Даниил Андреев, Александр Коваленский, Шурочка Доброва, там лежит сам доктор Добров и другие Добровы.
Общая могила, которая примирила всех этих людей.